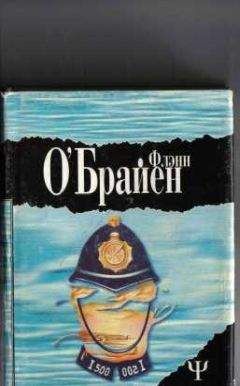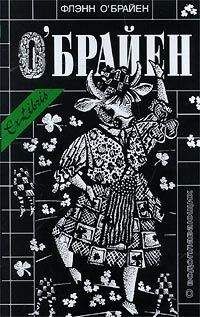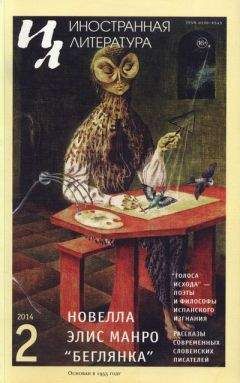Флэнн О`Брайен - О водоплавающих
Как-то днем я заметил фигуру Бринсли, внимательно слушавшего невысокого светловолосого человека, быстро приобретавшего в районе Лейнстер-сквер репутацию автора прекрасных стихов, чем-то сходных с первосортной поэзией другого автора – американца мистера Паунда. Он говорил непринужденно, сопровождая свою речь резкими жестами. Я решительно подошел и представился. Фамилия светловолосого человечка была Донахи. Завязался изысканный общий разговор, в котором то и дело мелькали французские словечки и предметом которого было превосходство современной американской и ирландской литературы над низкопробными произведениями писателей-англичан. Святое имя также часто упоминалось, не припомню, впрочем, в какой связи. Бринсли, чье образование и содержание оплачивало его родное графство – по фартингу с фунта, чтобы дать возможность нуждающимся и многообещающим молодым людям вкусить благ университетской учености, – Бринсли сказал, что готов угостить меня и Донахи пинтой портера на брата, объяснив, что недавно получил деньги. Я заметил, что, если его финансы позволяют совершить столь благородный шаг, я не возражаю, но что касается лично меня, то я отнюдь не Рокфеллер – фигура речи, призванная выразить стесненность моих обстоятельств.
Название фигуры речи. Синекдоха, или автономазия.
Итак, троица наша медленно двигалась в направлении пивной Грогана, наши голоса живо перекликались, поддерживая ученую дискуссию, наши поношенные пальто – нараспашку, навстречу проблескам зимнего солнца.
– Правда, от этого парня чуднo пахнет? – спросил Бринсли, адресуя вопрошающий взгляд Донахи.
Я в шутку по-собачьи обнюхал себя.
– Пахнет от вас неважнецки, – признал Донахи.
– По крайней мере не перегаром, – ответил я. – Так чем же от меня пахнет?
– Вам никогда не случалось войти утром в комнату, – вкрадчиво начал Бринсли, – где всю ночь шла гулянка с сигарами, виски, крекерами и пахучими бабами? Именно так. Непроветренной комнатой.
– На себя посмотри, – сказал я.
Мы зашли в пивнушку и заказали наш любимый темный напиток.
– Есть один простой способ превратить портер в воду, – сказал я. – Даже ребенок способен на это, хотя лично я против того, чтобы поить портером детей. Неужели же вам не жаль, что человеческий гений так и не раскрыл тайну превращения воды в портер?
Донахи рассмеялся, но Бринсли даже не дал мне пригубить, всей тяжестью опустив свою руку на мою и назвав фамилию пивного фабриканта.
– Ты когда-нибудь пробовал это? – спросил он.
– Нет, никогда.
– Так вот, эта банда раскрыла тайну, – сказал Бринсли. – Клянусь, я ни разу не пробовал ничего подобного. А вам не приходилось?
– Нет, – ответил Донахи.
– Держитесь от него подальше, если вам дорога жизнь.
Минуту все молчали, глотая удручающе сладкую жижу.
– Хорошо мы тут на днях попили винца, – заметил Донахи, – шикарно провели время. Вино лучше портера. Портер, он как липучка. К вашему сведению, вино благотворно влияет на внутренности, особенно на пищеварительный тракт. Портер как липучка, и после него внутрях остаются шлаки.
Ленивым жестом высоко подняв стакан, я сказал:
– Если этот вывод основан на силлогизме, то он ложен, поскольку исходит из лицензионных посылок.
Громкий смех в унисон был мне наградой. Я нахмурился и как ни в чем не бывало стал пить, смакуя растекающееся по нёбу пресновато-сладкое послевкусие портера. Бринсли с размаху шлепнул меня по животу.
– Решил отпустить пузико? – поинтересовался он.
– Оставь мои потроха в покое, – ответил я, отводя его руку.
Мы выпили по три стакана каждый, за что Бринсли с легким сердцем выложил шестипенсовик.
Истинный потребитель. Совет графства Мит, орган сельского самоуправления.
Солнце зашло, и студенты вечернего отделения – многие из них уже сами преподающие, в возрасте, начинающие лысеть – в сгущавшихся сумерках спешили к колледжу пешком или на велосипедах. Поплотнее запахнувшись в свои пальто, мы стояли на углу и болтали, глазея по сторонам. Потом, всей командой, отправились на трамвае в кино.
За счет Совета графства Мит.
Три дня спустя, часов в восемь вечера, я шел один по Нассау-стрит – району, изобиловавшему представительницами древнейшей профессии, и вдруг заметил прямую, как шомпол, фигуру в суконной кепке, подстерегавшую добычу на углу Килдэр-стрит. Подойдя ближе, я узнал Келли. Дальнобойные плевки окружали его со всех сторон. Я пихнул его в бок, чувствуя, что покушаюсь на чужую собственность.
– А вот и наш мальчик! – насмешливо воскликнул я.
– А, красавец-мужчина, – ответствовал Келли.
Нахмурившись, я достал сигареты и прикурил две штуки. Стоя вполоборота, я спросил низким суровым голосом:
– Что поделываем?
– О, Господи, ничего, – сказал Келли. – Ничего, приятель. Пойдем, поговорим по дороге.
Я не стал спорить. Напустив на себя аморальный вид, я последовал за Келли в долгий путь в окрестности Айриштауна, Сэндимаунта и Сидни-Пэрэйд и обратно – к Хаддингтон-Роуд и каналу.
Цель прогулки. Обнаружение готовых к соитию девственниц.
За все время прогулки мы так и не обнаружили ничего, что отвечало бы вышеуказанной цели, но согрели наши одинокие души музыкой наших голосов. Содержание беседы составляли собачьи бега, пари, ставки и оскорбительные замечания в адрес ханжеского целомудрия. Немало миль мы уже исходили таким образом вечерами, преследуя достопочтенных матрон, приставая к незнакомкам, представляясь замужним дамам как старые друзья и без всякой причины задирая прохожую публику. Однажды нас, в свою очередь, преследовал полицейский в штатском. По совету Келли мы переждали в какой-то церквушке, пока он не уйдет. В результате я обнаружил, что прогулки благоприятно сказываются на моем самочувствии.
Посещавшая колледж публика разбилась на множество кружков и обществ, частью чисто культурных, частью сосредоточенных на организации и проведении разного рода игр с мячом. Культурные общества различались по характеру и целям, а жизнеспособность их измерялась числом забияк и прочих беспринципных личностей, которых им удавалось привлечь к своим дискуссиям. Некоторые из них были посвящены английской литературе, другие ирландской, третьи, наконец, изучению и распространению французского языка. Самым крупным было общество, собиравшееся каждую субботу по вечерам для свободных дискуссий на ту или иную тему; однако сотни студентов использовали эти собрания, чтобы вдоволь поорать, порезвиться, попеть и то и дело пускать в ход словечки и прибегать к действиям, несовместимым с обычаями добропорядочных христиан. Общество собиралось в старой, заброшенной, устроенной амфитеатром аудитории, вмещавшей сотни две с половиной человек. Аудитория выходила в просторный вестибюль, и в нем-то и собирались самые ражие и громогласные парни. Вестибюль освещался всего лишь одной газовой лампой, и когда ожесточенный гвалт становился нестерпимым, свет гас, словно выключенный какой-то сверхъестественной дьявольской силой, и наступавшая в подобных обстоятельствах темнота не раз вызывала у меня приступы физической и душевной тревоги – мне казалось, что большинство присутствующих одержимо нечистыми духами. В освещенный прямоугольник открытой в аудиторию двери летели не только грязные и бессвязные речи, но и разнообразные ненужные предметы, как-то: окурки, старые ботинки, сорванные со стоящих рядом приятелей шапки, куски конского навоза, скатанные в комок клочья грязной мешковины и подобранные на свалке предметы женского туалета, иногда еще вполне пригодные. Однажды Келли упаковал панталоны и панталончики своей хозяйки в аккуратный пакет из коричневой бумаги и через дружка послал его председателю, который вскрыл необычную посылку in coram populo (в присутствии собравшихся) и долго рылся в ней, вытаскивая на свет Божий предмет за предметом, словно ища среди них объяснительную записку, не в состоянии сразу осознать характер выходки по двум причинам: из-за близорукости и из-за того, что носил степень бакалавра.
Результат упомянутого деяния. Крики, смех и беспорядок в аудитории.
При посещении этих собраний я занимал позицию, где меня невозможно было опознать, молча стоя в комнате. Конец вышеизложенного.
Дальнейший отрывок из моей Рукописи, посвященной Рукописи мистера Треллиса, посвященной Джону Ферриски, его первым шагам в жизни и первым встречам с теми, кому предстояло стать его верными друзьями, oratio recta. Обращаясь к самому себе, он заметил, что это недурно, когда человек не знает себя в лицо. Звук собственного голоса ошеломил его. У него был выговор и интонация, характерные для представителей низших рабочих слоев Дублина.
Он стал исследовать стены комнаты с целью обнаружить дверь или какое-нибудь иное потребное для выхода отверстие. Он завершил обследование двух стен, когда на него нашло малоприятное ощущение одновременной слепоты, близкой истерики и позывов к рвоте – последнее обстоятельство очень сложно и трудно объяснимо, так как он ни разу на протяжении всей своей жизни не ел. То, что это было явление по природе своей чудесное, скоро стало ясно окончательно, так как рядом с камином появилось сверхъестественное облако, или ореол, напоминавший облачко пара. От слабости он упал на колено, в изумлении глядя на длинные, кисейные струйки пара, сплетавшиеся и уплотнявшиеся на потолке, глаза у него саднило, поры расширились от влажности. Между тем сквозь пар проступали смутные лица, тут же вновь растворявшиеся. Он услышал исходивший из середины облака равномерный бой огромного отлаженно-часового механизма, после чего его изумленному взгляду явился паривший в воздухе ночной горшок, бледный как привидение; постепенно под его взглядом горшок преобразился в колесико от кроватной ножки, увеличенное примерно в 118 раз по сравнению с натуральной величиной.